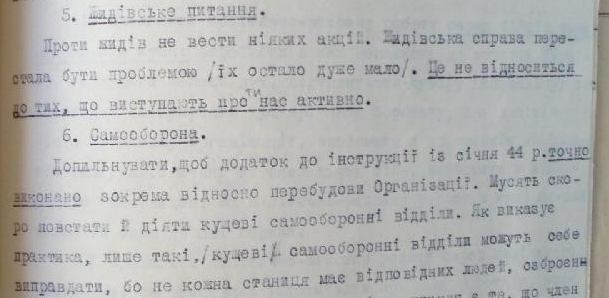Чапаев подошел к ограждению эшафота и поднял вверх ладонь
в желтой краге, призывая людей к молчанию.
- Ребята! - надсаживая голос, крикнул он. - Собрались вы тут сами
знаете на што. Неча тут смозоливать. Всего навидаетесь, все испытаете.
Нешто можно без этого? А? На фронт приедешь - живо сенькину мать куснешь.
А што думал - там тебе не в лукошке кататься...
Я обратил внимание на пластику движений Чапаева - он говорил,
равномерно поворачиваясь из стороны в сторону и энергично рубя воздух
перед своей грудью желтой кожаной ладонью. Смысл его убыстряющейся речи
ускользал от меня, но, судя по тому, как рабочие вытягивали шеи,
вслушивались и кивали, иногда начиная довольно скалиться, он говорил
что-то близкое их рассудку.
Кто-то дернул меня за рукав. Похолодев, я обернулся и увидел
короткого молодого человека с жидкими усиками, розовым от мороза лицом и
цепкими глазами цвета спитого чая.
- Ф-фу, - сказал он.
- Что? - переспросил я.
- Ф-фурманов, - сказал он и сунул мне широкую короткопалую ладонь.
- Прекрасный день, - ответил я, пожимая его руку.
- Я к-комиссар полка ткачей, - сказал он. - Б-будем работать вместе.
Вы с-сейчас будете говорить - п-постарайтесь покороче. Скоро посадка.
- Хорошо, - сказал я.
Он с сомнением посмотрел на кисти моих рук.
- Вы в п-партии?
Я кивнул.
- Д-давно ли?
- Около двух лет, - ответил я.
Фурманов перевел взгляд на Чапаева.
- Орел, - сказал он, - только смотреть за ним надо. Г-говорят,
заносит его часто. Но б-бойцы его любят. П-понимают его.
Он кивнул на притихшую площадь, над которой разносились слова
Чапаева:
- Только бы дело свое не посрамить - то-то оно, дело-то!... Как есть
одному без другого никак не устоять... А ежели у вас кисель пойдет - какая
она будет война?.. Надо, значит, идти - вот и весь сказ, такая моя
командирская зарука... А сейчас комиссар говорить будет.
Чапаев отошел от ограждения.
- Давай теперь ты, Петька, - громко велел он.
Я подошел к ограждению.
Было тяжело смотреть на этих людей и представлять себе мрачные
маршруты их судеб. Они были обмануты с детства, и, в сущности, для них
ничего не изменилось из-за того, что теперь их обманывали по-другому, но
топорность, издевательская примитивность этих обманов - и старых, и новых
- поистине была бесчеловечна. Чувства и мысли стоящих на площади были так
же уродливы, как надетое на них тряпье, и даже умирать они уходили,
провожаемые глупой клоунадой случайных людей. Но, подумал я, разве дело со
мной обстоит иначе? Если я точно так же не понимаю - или, что еще хуже,
думаю, что понимаю - природу управляющих моей жизнью сил, то чем я лучше
пьяного пролетария, которого отправляют помирать за слово "интернационал"?
Тем, что я читал Гоголя, Гегеля и еще какого-нибудь Герцена? Смешно
подумать.
Однако надо было что-то сказать.
- Товарищи рабочие! - крикнул я. - Ваш комиссар товарищ Фурманов
попросил меня быть покороче, потому что сейчас уже начнется посадка. Я
думаю, что у нас еще будет время для бесед, а сейчас скажу вам только о
том, что переполняет огнем все мое сердце. Сегодня, товарищи, я видел
Ленина! Ура!
Над площадью разнеслось протяжное гудение. Когда шум стих, я сказал:
- А сейчас, товарищи, с последним напутствием выступит товарищ
Фурманов!
Фурманов благодарно кивнул мне и шагнул к ограждению. Чапаев,
посмеиваясь и крутя усы, о чем-то говорил с военным в бобровой шубе.
Увидев, что я подхожу, он хлопнул военного по плечу, кивнул остальным и
пошел вниз с трибуны. Заговорил Фурманов:
- Товарищи! Остались нам здесь минуты. Пробьют последние звонки, и мы
отплывем к мраморному, могучему берегу - скале, на которой и завоюем свою
твердыню...
Говорил он уже не заикаясь, а плавно и певуче.
Мы прошли сквозь расступившуюся шеренгу рабочих (я чуть было не
потерял своего сочувствия к ним, увидев их вблизи) и направились к
вокзалу. Чапаев шел быстро, и я с трудом успевал за ним. Иногда, отвечая
на чье-нибудь приветствие, он коротко вскидывал желтую крагу к папахе. На
всякий случай я стал копировать этот жест и вскоре освоил его так хорошо,
что даже ощутил себя своим среди всех этих сновавших по вокзалу
недосверхчеловеков.
Дойдя до края платформы, мы спрыгнули на мерзлую землю. Дальше
начинался лабиринт заснеженных вагонов на маневровых путях. Со всех сторон
на нас смотрели усталые люди; проступавшая на их лицах однообразная
гримаса отчаяния объединяла их в какую-то новую расу. Я вспомнил одно из
стихотворений Соловьева и рассмеялся.
- Что это вы? - спросил Чапаев.
- Так, - сказал я. - Понял, что такое панмонголизм.
- И что же это?
- Это такое учение, - сказал я, - которое было очень популярно в
Польше во времена Чингиз-хана.
- Вот как, - сказал Чапаев. - Какие вы интересные знаете слова.
- О, до вас в этой области мне далеко. Кстати, не объясните ли вы,
что такое зарука?
- Как? - наморщился Чапаев.
- Зарука, - повторил я.
- Где это вы услыхали?
- Если я не ошибаюсь, вы сами только что говорили с трибуны о своей
командирской заруке.
- А, - улыбнулся Чапаев, - вот вы о чем. Знаете, Петр, когда
приходится говорить с массой, совершенно не важно, понимаешь ли сам
произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить
ожидания толпы. Некоторые достигают этого, изучая язык, на котором говорит
масса, а я предпочитаю действовать напрямую. Так что если вы хотите
узнать, что такое "зарука", вам надо спрашивать не у меня, а у тех, кто
стоит сейчас на площади.
Мне показалось, что я понимаю, о чем он говорит. Уже давно я пришел к
очень близким выводам, только они касались разговоров об искусстве, всегда
угнетавших меня своим однообразием и бесцельностью. Будучи вынужден по
роду своих занятий встречаться со множеством тяжелых идиотов из
литературных кругов, я развил в себе способность участвовать в их беседах,
не особо вдумываясь в то, о чем идет речь, но свободно жонглируя нелепыми
словами вроде "реализма", "теургии" или даже "теософического кокса". В
терминологии Чапаева это означало изучить язык, на котором говорит масса.
А сам он, как я понял, даже не утруждал себя знанием слов, которые
произносил. Было, правда, неясно, как он этого достигает. Может быть,
впадая в подобие транса, он улавливал эманации чужого ожидания и каким-то
образом сплетал из них понятный толпе узор.
Остаток дороги мы молчали.